Несовершенство человечества
Несовершенство человечества
Несмотря на все разногласия и споры, порождаемые различными интерпретациями образа и характера Иуды, одна постоянная константа может помочь нам выявить то общее, что присуще всем его перевоплощениям. Логика повествования требовала, чтобы кто-то предал Иисуса в руки Его врагов в Храме. И этот кто-то мог вполне быть тайным служителем самого Храма — фигурой типа Каиафы. Вместо этого предатель приходит из круга приближенных — почему в таком случае в этой роли не мог выступить, скажем, Петр? Однако эти два кандидата, с которыми Иуду часто сопоставляют и которые могли бы быть его «дублерами», четко закреплены сценарием за «своими лагерями» — один при Храме, другой в кругу апостолов. Перейди тот или другой в «противоположный лагерь», и Каиафа, и Петр тоже бы стал персонажем типа Иуды, перебежчиком или изменником. Через предание Иисуса от апостолов Храму предающий неизбежно оказывался связанным как с последователями Иисуса, так и с Его противниками, становился связующим звеном — таков Иуда. В этом смысле Иуда — необходимый персонаж сюжета, как-то верно подмечали многие комментаторы. Тогда почему это побочное следствие предательства так часто переосмысливается в последующие века?
Функцию, аналогичную роли Иуды, в архитектуре играет пазуха свода.[372] Английский термин «spandrel», использующийся для обозначения этого понятия, представляет собой уменьшительное производное от слова «span» («пядь» — расстояние между вытянутым большим пальцем и мизинцем; а также расстояние между опорами). Термин этот употребляется в архитектуре применительно к непредусмотренной планом конструкции, сооружаемой при необходимости соединить две арки или арочную дугу и прямолинейный карниз. Эта конструкция является побочным следствием других (главных) архитектурных решений. Но она может быть декорирована, а ее пространство, как внутреннее, так и внешнее, может использоваться в практических целях. Если условно уподобить первосвященников и апостолов двум аркам, то связующей конструкцией между ними выступает как раз Иуда. Сравнение Иуды с пазухой свода помогает нам понять воплощаемую им связь между иудеями, последователями Иисуса, и иудеями, хранящими верность Храму. Пазуха свода не выполняет никакой иной функции, кроме поддержания арки, и часто украшается лепниной или мозаикой либо служит неким хранилищем. Второстепенную роль играет и Иуда. О нем так мало говорится в Евангелии от Марка именно потому, что он — всего лишь необходимый инструмент для развития сюжета, играющий в Драме Страстей Господних лишь второстепенную роль. Однако его туманный образ, приспособляемый под практические цели, со временем обретает множество личин.
И все же почему по евангельскому сценарию предатель, передающий Иисуса от апостолов Храму, должен быть из близкого круга Иисуса! Разве не проще было бы передать эту роль имперским римлянам, арестовывающим Иисуса при подавлении какого-нибудь мятежа, к примеру? В кругу Пилата наверняка бы нашелся подходящий претендент. Но корни и вера Иисуса были иудейские, и потому ранние христиане могли утвердить свою «индивидуальность», только дистанцировавшись от своих иудейских истоков.[373] Чужеземный оккупант сам по себе уже был чужд; и не было надобности отчуждаться от него, как от Храма, и потому языческому Риму не придавалось такого значения, как Храму. Для передачи Иисуса не Риму, но Храму, нужен был не римлянин, но иудей. И конечно же, только иудея можно было использовать для резонирующего соотнесения с Иисусом, которое мы прослеживаем на страницах этой книги, — соотнесения, отображающего попытки христианства отделиться от иудаизма, не отвергая при этом своих иудейских корней. Веками — и мы в этом убедились — Иуда олицетворял иудеев.
На протяжении почти всей истории Иуда выступает как типичный подозреваемый во всех мыслимых и немыслимых грехах, виновник всех бед и несчастий — этакий яркий образчик отрицательного героя, олицетворение зла и бесчестия, приписываемых иудеям. И описанный в предыдущей части этой главы сложный сценарий послебиблейского пути Иуды, соотносимого с Иисусом, нередко подменял более простые сюжеты. В таких незамысловатых историях, которые также замалчивали многие евангельские противоречия, люди стремятся определить проблему, причину, по которой их жизнь не такая, какой должна была бы быть, и преодолеть грубые, животные инстинкты, чтобы улучшить свое положение. И в начале послебиблейской «жизни» Иуды, и в конце нее, а тем более в ее середине, писатели и художники следуют за ранними отцами Церкви, отводя двенадцатому апостолу роль «козла отпущения»: символа для взращивания враждебности, мишени, на которую можно было бы излить весь свой гнев, всю свою неприязнь. Помимо того, что его обвиняют в нечестивых поступках — воровстве, лжи и убийстве, Иуда часто воплощает собой губительные для человека смертные грехи, разрушающие его душу. Более того, он может олицетворять и отчаяние, и лицемерие, и даже «Schadenfreude»: постыдную, извращенную радость при виде боли, испытываемой другими.
Для антисемитов евреи — люди продажные, корыстные, несущие самоуничтожение и все оскверняющие. Но, как и Иуду, евреев можно также представить важными орудиями для достижения мессианских целей, имеющими благие намерения, но связанными тенетами ложных верований, слишком слабовольными, слишком упрямыми, а то и просто садистами. К сожалению, по моему мнению, в версиях, подчеркивающих порочность и нечестивость Иуды, часто делается упор на его еврейство. Иуда-аномалия, героический Иуда или Иуда-спаситель чаще воплощается в облике палестинского чудака или израильского зелота, тогда как Иуда-изгой олицетворяет иудаизм. Почему на раннем этапе строительства Церкви Иуда — единственный из всех апостолов — начинает отождествляться с иудеем-евреем? Самое простое тому объяснение кроется в механизмах проецирования вины, беспокойства и опасений: иудеи-христиане, вероломно пренебрегшие своими корнями и ставшие отступниками и изменниками в глазах тех, кто хранил верность иудейским традициям, в которых они и их семьи родились и выросли, облегчали свое чувство вины, возлагая вину за предательство на иудейского Иуду; обращенные евреи могли дифференцировать принятое ими христианство, отрицая его иудейские истоки и тесную связь с предательским «иудоизмом».
Подобно тому, как ребенок, взрослея, отчуждается от своего родителя, но затем начинает ценить отчий дом, христианство дифференцировало себя, сначала отвергая, затем признавая, а позднее даже благочестиво почитая свои иудейские корни.[374] Патриархальный в своей сути иудаизм, однако, часто демонстрировал довольно противоречивые реакции, присущие обычно матери — характеру, который Джамайка Кинкайд однажды назвала «Миссис Иуда» (130).[375] В раннем искусстве отвергнутый иудаизм, или Храм Иерусалимский, персонифицировался в женской фигуре Синагоги: слепой, или теряющей свою корону, рыжеволосой, облаченной в желтые одежды, одержимой сатаной, в обществе Евы или противопоставляемой Марии.[376] В противовес Экклесии — Церкви, также часто воплощаемой в женском облике, Синагога напоминает женоподобного Иуду. Когда Иуда отражает то, как христиане представляли иудеев и храм — как двойников, сообщников или альтернативу Иисусу и Церкви, — двенадцатый апостол олицетворяет феминизацию мужского начала иудеев.[377]
Если Иисус выступает новым Адамом, то Иуда, который иногда ест перед тем, как искусить соблазном других, и часто изображается обок с рептилиями, выступает мужеским аналогом Евы.[378] Иуда может уподобляться и Каину, и Исаву, и Иуде (брату Иосифа), и Ахитофелу, вероломному подданному царя Давида, покончившему жизнь самоубийством, и Ироду Агриппе, пожираемому червями, и Иову, претерпевающему страдания по воле Божьей, но более всего — Еве, принесшей в мир грех, смертность, боль, стыд и необходимость постоянно трудиться.[379] Полагаемые недостатки Евы — «ее любопытство, тщеславие, неуверенность, легковерность, алчность и отсутствие нравственной силы и опыта» — все применимы и к Иуде, равно как и присущие Еве «чрезмерно развитые воображение, чувственность и скрытность» (J. Phillips, 62). Особенно явно плотские пороки потомков Евы проявляются в Иуде — с его кровавыми выделениями и греховной похотью — в период до Нового времени, когда евреи, наряду с еретиками, блудницами и прокаженными, отождествляются с заразными осквернителями. И поцелуй Иуды, и его донос, и жадное пожирание хлеба приносят ему такое же оральное наслаждение, как вкушение запретного плода — Еве. Не враг, но лелеющий надежды близкий человек и поверенный наперсник, Иуда напоминает Еву своим нарушением доверия, делающим любимого им человека уязвимым, и особенно уязвимым перед смертью. Еву сатана искушает, Иуда одержим сатаной, и эта одержимость наделяет его силой, которой невозможно легко противостоять. И, как и Ева, Иуда — отдающий Иисуса или обнимающий Его — может быть противопоставлен Марии.
Однако же Ева разделяет свои страдания с Адамом, тогда как Иуда не переживает муки Иисуса, так указано в большинстве источников. Кроме того, многие из нас подозревают, что могли бы испытать искушение вкусить сладкого плода в райском саду и обрести мудрость, но мало кто из нас допускает, что способен заманить в ловушку любимого друга или почитаемого учителя. Некоторые из нас испытали боль деторождения, но лишь немногие из нас, я надеюсь, готовы по доброй воле отдать свое тело во власть демонов. Многие писатели готовы даже оправдать Еву, перекладывая ответственность за их грехопадение на Адама, с его первенством в акте творения: в любом случае он не должен был внимать ее совету[380] И, конечно же, Иуда, за исключением разве что комического мира Монти Пайтона, — всегда мужчина. Так что же эта генеалогия Евы означает для мужского персонажа?
Женское тело Евы наилучшим образом символизирует ненавистную отличность, которая выделяет и Иуду. Эту отличность в Иуде — не только человеке, но и апостоле — нужно было только еще больше подчеркнуть: через карающие духовные и физические расстройства, страдать которыми и воплощать которые он обрекается. Чем серьезнее преступления и чем суровее наказание, тем рельефнее обозначается то «отличное», «иное», в мужской особи любого живого вида, что отвратительно и ненавистно для всех остальных. Карой двенадцатому апостолу, уподобляемому мертворожденному или родившемуся до срока, недоразвитому уродцу, служат множественные отклонения и болезни. В эпикризе Иуды — слепота, булимия, колики, кретинизм, дизентерия, слоновая болезнь, нарушенная эрекция, проказа, корь, полнота, гниение плоти, бешенство, синдром беспокойных ног, шизофрения, одержимость и сыпь. Подобные патологии часто сопровождают его самые злодейские образы, а все его перевоплощения, взятые вместе, отражают расстройства личности, ее противоречивость, предопределенную множественными несоответствиями всех Евангелий.
Помимо того, что Иуда олицетворяет изменника или перебежчика — человека, кажущегося не тем, кем он есть на самом деле, — он отражает и предвзятость по отношению к запрещенным или подвергаемым остракизму группам (не только иудеям) и страх перед ними. Ева в мужском платье, Иуда — отвергающий или принимающий, утверждающий или умаляющий власть и могущество Иисуса — занимает совершенно особое место в воображении европейцев. Апостол в строго мужском кругу, ассоциирующийся с анальностью и выдачей секретов, Иуда сохраняет свою мужественность, но не всегда мужеподобен — отчасти из-за своей схожести с Евой, но также и из-за своего отступления от порядка, установленного предками. Не наследник, но и не биологический прародитель (в большинстве трактовок), он видит самыми важными для себя отношения с Иисусом, своим другом или врагом. Иногда воплощающий давлеющую чувственную похоть, испытывающий запретное вожделение к лицу своего пола Иуда обретает даже гламурный образ л ибо ужас, внушаемый такими наклонностями, подкрепляет его дурную репутацию.[381] Но в иных случаях и в разных контекстах Иуда олицетворяет множество самых разных и по-разному чернимых и клеймимых групп населения — еретиков, чужестранцев, африканцев, инакомыслящих, физически ущербных, самоубийц, сумасшедших, неизлечимо больных, агностиков. Членов этих групп — чужих и чуждых для остальных — также можно было заклеймить «изменниками» или «перебежчиками». Потенциально обращаемые, все эти отверженные, возможно, подозревались в использовании разных маскировочных техник для проникания, скрывания, ассимиляции в обществе — то есть в изменническом обмане. Либо допускалось, что они испытали настоящее обращение, пока очередной рецидив не доказывал обратное.
Таким образом, в разные моменты своей «творческой» истории, Иуда отражает одновременное притяжение и отталкивание, амбивалентность всех тех, кто не подпадает под нормативные категории. Он возвращается вновь и вновь потому, что — о том без конца толкуют нам многочисленные психоаналитики — все, что подавляется, всегда возвращается. Воплощая людей, преданных анафеме, Иуда знаменует двойственную сущность перебежчика, нерешительность и колебания доносчика. При ближайшем рассмотрении его двойственная верность объясняется противоречивой, неясной, смешанной натурой: помесь, или «mischling», он поддерживает другого репрессированного, а именно — ту взрощенную на местной почве чуждую смесь, что зовется иудео-христианством, двойное наследство одного из величайших и одного из самых малочисленных народов мира.[382] В наше время Иуда представляет группы, порабощенные системами верований, которые они не могут полностью разделять и безоговорочно принимать. И таких людей не так уж мало. В одни моменты своей эволюции Иуда становится демоном, низкой духовной силой зла, а в другие моменты — даймоном, возвышенной духовной силой добра. И это наглядно отображает различное отношение общества к своим отверженным избирателям — в частности, к гомосексуалистам или душевнобольным — в разные времена считавшимся либо страдающими раздвоением личности, либо гибридными помесями, либо колеблющимися, либо одержимыми сатаной, либо блаженными.
В таком ракурсе Иуда развенчивает попытки заменить «я» снимающим с себя ответственность «ты», противопоставить себя другому, обелить себя за счет другого. В данном случае я придерживаюсь несколько иной точки зрения, нежели воззрение на Драму Страстей Джорджа Штайнера. По мнению Штайнера, под «лучащимися императивами» заповедей Иисуса, декларирующего «полный альтруизм, всеобщую любовь и сострадание, готовность к совершенствованию», мы осознаем нашу собственную слабость, неспособность к «подражанию, [которое] оказывается слишком трудным», и «обращаем ненависть и отвращение, испытываемые к себе, на тех, кого мы не способны превзойти и чьи требования нас изобличают» (Steiner, 398). Но, по крайней мере с исторической перспективы, большинство людей западной цивилизации восстают не против лица совершенного, но против лица несовершенного, то есть против того, кто олицетворяет все «слишком человеческие» недостатки, препятствующие совершенствованию. Ненавидимый, вызывающий отвращение Иуда — отвергаемое «ты» — отображает перспективу той истории, которую делали те, кто стремился отделить себя от всего, что считалось отвратительным или постыдным. Однако самые великие художники осознали, что к такому персонажу — будь то еврей или гомосексуалист, африканец или еретик, физически ущербный или душевнобольной — невозможно относиться, как к «иному», не такому, как ты сам. Противопоставление «я» «ты» лишь высвечивает попытки людей снять с себя ответственность за свои собственные недостатки и пороки, признать, что «я» подчас немногим лучше, чем «ты». И все же это не главное. Гораздо важнее то, что — независимо оттого, как часто Иуда обретал стереотипные семитские или африканские черты или становился душевнобольным, — толкователи, верные фундаментальным текстам, должны были включать его в число двенадцати, тем самым признавая, что предание Иисуса тем, кто был вне круга его последователей, совершил тот, кто был внутри его.
Транснациональный и многоязычный, исключительно несовершенный ученик нередко утверждается за счет живучести порока или постоянства мучительной боли независимо оттого, по каким географическим маршрутам он кочует. То, что Стэд — известный новозеландский писатель, Кнут Одегард — норвежский, а Риччи — канадский, подчеркивает космополитический характер путешествия, совершенного Иудой на этих страницах. Рожденный на Среднем Востоке, Иуда появляется в итальянских и английских легендах и пьесах, на австралийских и немецких холстах, в греческих, португальских и французских романах, а также в фольклоре и поэзии Северной и Южной Америки. Он эволюционирует в художественной традиции, формируемой не исключительно, но преимущественно христианскими мастерами, притом мужеского пола.[383] Самые новаторские художники, поэты и романисты, участвовавшие в создании его «творческой» истории, жили в католических странах, с клерикальными, насквозь пропитанными религиозными постулатами, культурами. Их воображение питали Евангелия. И они лишь развивали ту или иную деталь об Иуде, которую находили в свидетельствах Марка, Матфея, Луки и Иоанна, пренебрегая евангельскими противоречиями.[384] Но предательство оказывается крайне сложной этической категорией, а Иуда сравним с пазухой свода, занимая нишу, отделяющую «нас» от «них», друзей от врагов, круг приближенных от всех, кто в него не входит. И потому мы вполне можем представить его потерянным учеником — потерянным для спасения; исключенным из числа апостолов; потерянным, как падшим морально и обреченным на гибель; но встречающимся вновь и вновь в любой исторический период в любом языковом сообществе. Для гностиков он был тринадцатым апостолом, а вследствие его замены Матфием в «Деяниях Апостолов», он становится тринадцатым апостолом после распятия Иисуса и в Новом Завете: несчастливое число, отображающее странную притягательность персонажа потерянного, но не исчезнувшего.
Поразительная трансформация Иуды подчеркивает древнееврейскую этимологию его имени. Ироничным контрфорсом в свете традиционных толкований образа Иуды предстает значение его имени на древнееврейском языке: «он, да будет восславлен».[385] Возможно, именно в силу своей неоднозначной роли, Иуде заслуживает поклонения, как существо необходимое. Ведь он постоянно — с библейских времен — внушает беспокоящее сомнение: «Не я ли?» (Марк 14: 19) или «Не я ли, Равви?» (Матфей 26:22). Не дезавуированное, снимающее ответственность «ты», а исполненное страха и тревоги «я ли?», как будто это «я» отчаянно отрицает, отвергает то, о чем свидетельствуют Марк и Матфей. Эта горестная реплика откликается тому, кто ее произносит, постоянным унижением от бесконечных обвинений в предрасположенности к предательству, заблуждениям и ошибкам, прегрешениям, пагубным желаниям и инстинктам, воплощенным не в других, но в компромиссном «себе».[386] Тяжесть приговора Иуде зато обосновывает милосердие Иисуса. «Дело» Иуды отражает тревогу по поводу способности человечества страдать и грешить. Помимо того, что двенадцатый апостол олицетворяет всех тех, кто заклеймен бесчестием, он также генерирует историю, высвечивающую не только страдание или грехи других, но и осознание своего собственного страдания или своих собственных прегрешений, способное вызвать в человеке тошнотворное ощущение собственной грязи и боль.[387]
Симптом отвращения к самому себе или омерзительности самому себе — тошнота, которая часто мучает Иуду. И тошнота эта является следствием болезни, от которой так часто умирает Иуда и которую медики зовут «извращенным аппетитом». Будучи не в силах справиться с соблазном попробовать все — даже то, что несъедобно, а то и вовсе вредно, двенадцатый апостол заглатывает или извергает с рвотой монеты, насекомых, птиц. И ему, и народу, который он воплощает, молва нередко приписывает пристрастие к гомотофагии (питью крови) или урофагии (питью мочи). То, что не должно попасть внутрь, исторгается наружу — иногда орально, иногда анально — с рвотой или испражнениями. Тот же «механизм» действует и при его исключении из круга апостолов: то, что не приживается, отторгается; тот, кто не достоин быть в узком кругу избранных, изгоняется. Хотя библейские свидетельства об одержимости Иуды дьяволом могут показаться фольклорными влияниями, почему и толковались многими более поздними художниками в психологическом ракурсе, они прекрасно отображают состояние ума человека, чувствующего, что его изнутри, предательски, обуревают силы, от которых надлежит очиститься. Испытывающий отвращение к тому, что у него внутри, и сам вызывающий отвращение у многих хронистов, Иуда страдает всеми ментальными и психическими болезнями, которые только может унаследовать плоть. Поскольку, занимая нишу между «нами»/«ними», друзьями/врагами, внутренним кругом/внешним кругом, он носит в себе все, чего в себе не следует копить: идеи, чувства, желания, побуждения, пагубные для него самого и отталкивающие других. То, что Иуда олицетворяет собой самое жалкое состояние, в котором только может пребывать человек, означает, что наше восприятие его высвечивает не только наши страхи за свои собственные грехи и наши страдания, но и этическую категорию несправедливости и психологическое состояние отчаяния.
«Творческая» история Иуды играет ключевую роль в истории этики, поскольку именно он воплощает то «ощущение человеческого несчастья», которое Симона Вейль считает «предпосылкой или непременным условием справедливости и любви» (S. Weil «Iliad», 34). Иудейский мыслитель, почитавшая Иисуса Христа, но оставшаяся невоцерковленной, Вейль оперировала понятиями, применимыми и к тому, что отображает собой эволюция Иуды: «Тот, кто не осознает, до какой степени переменчивая судьба и необходимость удерживают в подчинении любой человеческий дух, не может ни считать дружественными себе, ни любить, как самого себя, тех, кого случай разделил с ним пропастью» («Iliad» 34—35). Не так давно в работе, не касающейся библейских вопросов, Ева Кософски Сэдгвик подробно описала те психологические затруднения, которые испытывает человек, ощущающий себя не приспособленным к окружающим условиям, неуместным в них, изолированным от других волею переменчивого случая или необходимости. Эта ситуация вполне применима к Иуде. По мнению Сэдгвик, «предпосылкой» «депрессивного состояния» является «именно трудность осознания того, что добро и зло неразделимы на любом уровне» (Sedgwick, 637). Состояние подавленности может проявляться «в формах угрызений совести, раскаяния, стыда, полного замешательства, лишающего способности думать, депрессии как таковой, сожаления об утраченном идеале и — зачастую более уместного — парализующего осознания неумолимых законов непредвиденных последствий» (637). Эмиссар подавленности, Иуда намекает, что добро и зло неразделимы, они соседствуют и сопутствуют друг другу. И наши действия, как и действия наших ближайших товарищей, могут нанести и подчас наносят вред и обиду.
Не важно, в какой именно форме проявляется подавленность Иуды. Важно, что возникает она вследствие вызывающего отвращение осознания факта своей измены (способности к ней) либо своей уязвимости перед непредвиденными последствиями. Подобное осознание, постижение самого себя не гарантирует отказа от действий, могущих причинить вред. В поэме Анны Секстон, «Легенда об одноглазом человеке», в названии которой содержится намек на персонажа, часто изображающегося двуликим, есть ключевая фраза: «история его жизни — это история обо мне».[388] Предатель среди своих необходим потому, что предатель всегда находится среди своих. Долгая история Иуды в искусстве развивается по Марку и Матфею: евангельское повествование требует использования местоимений «я» и «меня, «мы», и «нас». Мы предали Иисуса; мы предаем самих себя. Вот истинная причина, по которой роль предателя отводится апостолу. Иисусу причиняют боль те самые люди, которых Он пришел спасти. В «Деяниях» даже апостол, которого часто рассматривали, как анти-Иуду, Петр, свидетельствует об Иуде: «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего» (1: 17, выделено автором).
Не важно, насколько сильно Иуда может быть изолирован от остальных апостолов на полотнах, изображающих Тайную Вечерю. Не важно и то, насколько покорно он сгибается, раболепствует или извивается. Важно другое: невзирая ни на что, двенадцатый апостол участвует в Тайной Вечере как приглашенный — пусть даже и не желанный, но гость в кругу Иисуса: чужак, но и сосед, местный чужестранец. И разве случайно этот местный информатор часто оказывается к нам, зрителям, всех ближе — как на полотнах таких художников, как Креспи и Ратгеб, Мастер Домовой книги и Мастер Бертран, Рубенс и Гольбейн, интуитивно предвосхитивших вердикт Сарамаго: «Он всегда будет один из нас, мы можем не знать, что с ним делать, но он будет оставаться одним из нас» (40)? Иуда и его роль в драме Страстей заслуживают признания за его жуткое служение: напоминая толкователям и комментаторам Евангелий (любой религиозной принадлежности) о нашей неспособности постичь принципы, управляющие человеческой природой — нашей собственной и таковой других.
Кроме того, двенадцатый апостол не так уж и подходит для тех разнородных целей, которые многочисленные толкователи приписывали Богу в связи с творением, и тем самым он затрудняет поверхностные рассуждения о предназначении мира, который мы населяем. По этой причине религиозный философ Дональд М. Маккиннон однажды заявил: «Совершенно бессмысленно говорить о христианской религии, как о религии, предлагающей решение проблемы зла. Нет в Евангелиях и решения загадки Иуды, благодаря действиям которого Сын Человеческий проходит предначертанный Ему путь. Проблема обозначена; она остается нерешенной, но нам предложен образ того, кто нес свое непосильное бремя и пронес его до конца, отвергнув бескровную победу, к которой побуждали Его на самом деле глумливые безбожники, призывавшие Его сойти с креста» [92—93].
По мнению Маккиннона, «то, что Евангелия предлагают нам», есть не «решение», а, скорее, «рассказ о терпении: «Христианство берет историю Иисуса и побуждает верующего обрести, терпеливо снося противоречия человеческого существования, являющиеся его сутью, уверенность, что в худшем из того, что может постичь Его создания, созидательное Слово пребывает с теми, кого Он призвал» (93).
К этому я бы только добавила, что отказ христианства предложить решение загадки Иуды — «проблема обозначена; она остается нерешенной» — лишь придает значимости апостолу, который также нес свое «непосильное бремя» зла и «пронес его до конца».[389] Иуда терпеливо сносит «худшее из того, что может постичь» Божье создание, и делает это, несмотря на то что «созидательное Слово» не пребывает с ним. В Драме Страстей один и только один апостол претерпевает, как Иисус, смерть во спасение — в случае с Иудой это смерть с возможностью быстрого понимания тех, кто пытается преодолеть отверженность и одиночество. «И разве Иуда, на своем месте и по-своему не выдающийся апостол?», — задается вопросом Карл Барт, тем самым доказывая, что его пристальное внимание к Евангелиям может отступать от тех антисемитских идей, во служение которым он столь часто ими оперирует: «Разве не есть он святой среди них — святой в старом понимании этого слова, тот, кто мечен, заклеймен, осужден, тот, кто несет бремя божественного проклятия и отвергнут всеми, тот, кто тем самым наиболее приближен к Самому Иисусу?» (479).[390] И здесь опять — как и всегда в случае с Иудой — всплывает парадокс: не сумев разрешить проблему зла, обозначенную Иудой, христианство, тем не менее, постулирует ее, признавая не решаемой. Нерешенная загадка всегда будет оставаться актуальной и провокационной, всегда будет побуждать умы к поиску ответов. Не лишая веры, парадоксы волнуют разум верующего — ведь они открывают «опытные пути познания духовных истин, которые невозможно передать ни словесно, ни образно» (Madden and Hare, 66).[391]
Как и другие ученики и как многие жители древней Палестины, Иуда в самом начале своей истории вроде бы совершенно сознательно принимает служение ради Мессии, который предрешит конец истории человечества во Славу величия Господа:
«Ибо от Сиона выйдет Закон,
и слово Господне — из Иерусалима.
И будет Он судить народы,
и обличит многие племена;
и перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы;
не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать». (2: 3—4)
«И падет величие человеческое,
и высокое людское унизится;
и один Господь будет высок в тот день.
И идолы совсем исчезнут.
И войдут люди в расселины скал
и в пропасти земли,
от страха Господа
и от славы величия Его,
когда Он восстанет сокрушить землю». (2: 17—19)
Иисус Сам в различных пророчествах, как позднее и Павел, похоже, верил, что Мессии удастся быстро установить мессианский век мира и справедливости, когда все ложные ценности и грубые проявления силы будут сокрушены.[392] Иуда же, разделявший поначалу столь радужные надежды, в определенный момент своей жизни усомнился, что такое время может наступить скоро. Независимо оттого, верит ли кто-то в возможность своего собственного искупления или нет, Иуда постулирует упрямый факт, что такой мир, каким мы его знаем, останется неискупленным, хотя и не лишенным надежды на искупительное спасение. В «Синае и Голгофе» Джон Т. Павликовски признается от лица католиков и протестантов: «Мы все еще ожидаем — вместе с иудеями — наступления Мессианского века» (124). В конце книги он цитирует раввина Ирвинга Гриберга, призывающего протестантских, католических и иудейских верующих «подождать, пока не явится Мессия. Тогда мы спросим Его, первое ли то пришествие Его или второе» (228).
Став для Иисуса иудеем, Иуда освободился от иллюзий, возможно, обеспокоенный судьбой колонизированной иудейской земли, возможно, нетерпеливый или опасающийся способности Иисуса установить земное или духовное царство, возможно, обезоруженный или удрученный, возможно, упрямо, хоть и необъяснимо, сопротивляющийся милости, возможно, вновь увлеченный словами еврейской Библии и первосвященниками. Либо по имевшему меньший резонанс сценарию Иуда помог реализоваться замыслу Иисуса слишком дорогой для себя ценой. Хотя и в этом случае он пострадал несправедливо и тем самым подтверждает, пусть и не очевидный, неуспех дела. В большей степени, чем любой другой персонаж в Драме Страстей, и в силу своей подверженности ошибкам Иуда олицетворяет собой всю трудность для человека следовать призыву Иисуса: «будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный» (Матф. 5:48).
Мастера изобразительных искусств и словесности, упомянутые на страницах этой книги, породили на свет целый сонм всевозможных версий, акцентируя те или иные моменты в жизни Иуды: реже — его призвание в апостолы и служение для Иисуса и вместе с Ним; гораздо чаще — его сотрудничество с первосвященниками и старейшинами, его участие в Тайной Вечере, поцелуй в Гефсиманском саду, раскаяние, возвращение сребреников или приобретение поля горшечника и, наконец, смерть. Последовательность этих сцен в совокупности отображает направление развития западной культуры сквозь призму нашего сознания, расстающегося с идеалами при постижении того, что все ненавистное, пагубное или вредное присуще в той или иной степени всем и вся; сквозь призму личности, которой мог быть или опасается стать любой; сквозь призму души, обреченной сценарием. История Иуды развенчивает вред: он причинил вред и вред был причинен ему; при наказании Иуды вред был нанесен другим: пострадали невиновные.[393] Не только несчастья, причиной которых явился двенадцатый апостол, но и те ужасные бедствия, что претерпели невинные люди, разделившие с Иудой наказание за причиненное им зло, — все эти несправедливости лишь подтверждают, что мы немногим отличаемся от него. Исключение, оказывающееся правилом, — Иуда занимает прочное место в западной культуре, олицетворяя ложь или непостоянство, заблуждения или сомнения в своей правоте, не демонстрируемые другими, но присущие каждому. Иуда — зеркало нас.
Двоеверие Иуды, его приверженность одновременно и Иисусу, и Храму свидетельствует лишь о его сильном желании увидеть надменность усмиренной, спесь — обузданной законом, а идолов — поверженными, как, впрочем, и о глубокой убежденности в том, что такое случится не скоро. Служение Иуды, как и служение остальных одиннадцати, подчеркивает стойкое стремление многих приблизить то время, когда люди «не будут более учиться воевать». Но его визуальные перевоплощения и воскресения на страницах книг только питают огорчительное подозрение в том, что мир, который мы построили, ставит под сомнение подобный исход.
* * *
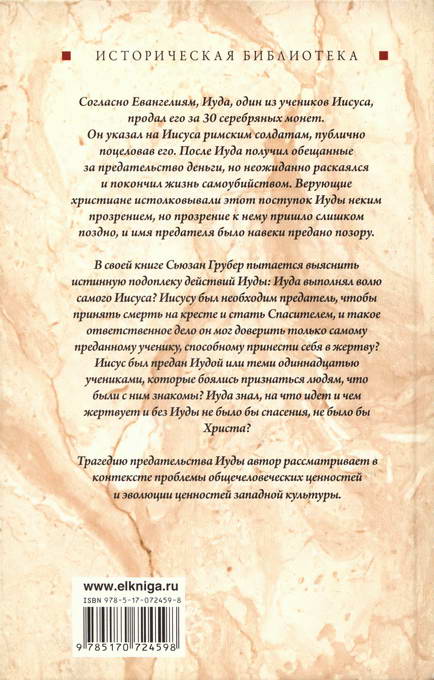
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
1) Несовершенство нашей человеческой природы
1) Несовершенство нашей человеческой природы Христос знал о несовершенстве человеческой природы, ибо человек очень далеко ушел от своего первоначально идеального состояния. В Псалме 8 говорится о достоинстве человека и его судьбе с точки зрения замысла Бога как его
Б. Грехопадение человечества
Б. Грехопадение человечества Если говорить о человечестве, то грех возник в Едемском саду, когда Адам и Ева ослушались своего Создателя. В Быт. 3 описывается, как грех вошел в наш мир. Первый грех наших прародителей указывает на четыре важных фактора, которые как по
А. Несовершенство системы образов
А. Несовершенство системы образов Это исследование исполнения образов жертвенной системы во Христе приводит нас к Откровению и Посланию к Евреям. Но, поскольку жертвенное истолкование смерти Христа встречается также и в других местах Нового Завета, мы будем их также
5. Грехопадение человечества
5. Грехопадение человечества Подобно ангелам, Адам и Ева были сотворены свободными совершенными существами. Запрет вкушать плод с древа познания добра и зла был простой проверкой их послушания: они могли избрать послушание Богу по мотиву любви или не послушаться Его,
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА[19]
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА[19] Наша эпоха окрашена в цвет крови. XX век стал веком духовной и социальной мутации, и для России это обернулось национальной катастрофой. Точнее, цепью катастроф, каждая из которых была следствием и продолжением предыдущих. Реализация утопии,
Единство человечества.
Единство человечества. Из родословных, помещенных в Книге Бытие, явствует, что все поколения людей, живших после Адама и Евы, произошли от этой пары. Все мы имеем одинаковую природу, которая указывает на наше генетическое или генеалогическое единство. Апостол Павел
Надежда для человечества.
Надежда для человечества. Хотя люди рождаются смертными, Библия побуждает их искать бессмертия (см. Рим. 2:7). Источник этого бессмертия — Иисус Христос: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23; ср. 1 Ин. 5:11). Он разрушил смерть и явил «жизнь и
УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Ра – это бог, который создал себя и был царем над богами и людьми. Люди посоветовались и сказали: «Смотрите, его величество бог Ра состарился; его кости стали серебряными, члены – золотыми, а волосы – чистая ляпис-лазурь». Его величество услышал
Душа человечества
Душа человечества Мы все – отростки древа жизни, Частицы мировой души. Кто жил, кто жив, кто будет жить — Сограждане одной Отчизны. Всё человечество едино, Един небесный наш Творец. Грехопадение – причина Разъединения сердец. Рабы своих страстей телесных, Мы
Начало человечества
Начало человечества 1 В Библии говорится, что Бог сотворил человека из праха земного. Он дал ему жену и поместил его в райском саду Едеме, где были удовлетворены все его материальные потребности. Мы читаем, что Бог после сотворения Адама и Евы «увидел… всё, что Он создал, и
Солдаты человечества
Солдаты человечества Однажды одна из дивизий японской армии участвовала в военных учениях, и несколько офицеров сочли необходимым разместиться в храме Гадзана.Гадзан сказал своему повару:«Давай офицерам такую же простую пищу, как и нам».Это очень рассердило вояк, так
"Храм Человечества"
"Храм Человечества" "Храм Человечества" (The Temple of the People) был основан в Сиракузе, Нью-Йорк, в 1898 г. Францией Ла Дью (Francia A.La Due) и Уильямом Доуэром (William H.Dower). Он принял эстафету теософского Учения, данного миру Е.П.Блаватской, продолженную после нее Уильямом К.Джаджем (William Quan Judge),
[Несовершенство богов ]
[Несовершенство богов] Так что самое великое в античности, и в особенности у Гомера, — это герои. Не просто в широком смысле — человеческие герои, люди-герои, — но в собственном смысле, полубоги. (И герои, рожденные от человека и богини, наделены, быть может, чем-то еще